Взросление молодёжи
То, что взрослому человеку кажется простым и бесспорным, для семнадцатилетних часто полно сложностей и сомнений. В этом возрасте складывается характер, формируется личность, и очень важно, чтобы в поисках ответа на свои вопросы юный человек не сбился, не спутал настоящие духовные ценности с ложными в заманчивой «современной» упаковке.
...Таня Овсеенко из Краснодарского края рассказала в письме о случае, свидетельницей которого она стала. «Моя подруга взяла у своей старшей сестры джинсы напрокат, на один вечер, и пошла в них в кино. В тот вечер она познакомилась с парнем. На следующий день, когда она явилась на свидание не в джинсах, он просто не стал с ней разговаривать...»
Случай, прямо скажем, курьезный. Но тема, которую поднимает Таня,— о роли модной одежды в восприятии молодыми людьми друг друга и вообще внешней «формы», внешних «знаков» поведения,— не шуточная и не частная. В почте «Девичника» часто встречается вопрос — что значит быть современной? Как лучше соответствовать требованиям сегодняшнего дня? В чем это должно конкретно выражаться?
Вот и Таня пишет: «Иногда приходится слышать: «Теперь совсем другие времена, не то, что раньше». Этим объясняют и то, что некоторые девушки позволяют себе носить вызывающую одежду, курение у всех на виду, разболтанные манеры... Все это выдается за современный стиль поведения. Но разве это правильно? Я не согласна, что время в чем-то виновато, что могут устареть застенчивость, нежность, скромность. Виноваты только мы сами, когда поддаемся на подобные «теории»...».
Вопрос, как себя вести, как общаться со сверстниками, как поступить в том или ином случае, для 15—17-летних бывает жгучим и мучительным. В этом возрасте особенно страшит опасность «отстать», прослыть «несовременной», «чудачкой», «белой вороной». Недаром психологи обращают внимание на подобное свойство отрочества, как и на естественные, для этого возраста повышенное внимание к моде, страсть к подражанию понравившимся образцам — будь то звезда эстрады или школьный любимец (или любимица).
Все это выходит далеко за пределы одной только темы — модной одежды. Чужие джинсы напрокат... Ведь не для простого удобства они одевались в данном случае, а для престижа, для формы, для видимости, чему придается, стало быть, большое значение. Такой «прокат» небезобиден: он дополнительно утверждает власть принятой формы. Выходит, важен внешний вид, а не сущность человека?
Поймет ли подруга Тани Овсеенко, столь уверовавшая в «джинсовое обаяние», что и сама она — невольная причина собственной досады? К сожалению, случается и более опасное: подобно модной одежде, девушка начинает «примерять» к себе манеру держаться, разговаривать, подбирает «модный» стиль и нормы отношений с людьми... Не случайно чаще всего и прежде всего такой «пересмотр» происходит в области самой сокровенной и волнующей, той, что принято называть «Он и Она». Не случайно потому что в этой сфере чувства наши особенно обострены и ранимы. Любовная неудача, разочарование в близком человеке или временный неуспех в среде сверстников могут вызвать цепь сомнений.
«Мне 17 лет, учусь на контролера-кассира,— пишет Таня И. из Красноярского края — Сколько девчонок у нас в училище, и у всех есть друзья. Только у меня никого нет...» Одиночество, потребность в близком, понимающем друге заставляют Таню сурово, критически взглянуть на себя. Наверное, думает она, все дело в ней самой, в ее нескладном характере... Молчалива, застенчива. Танцам предпочитает чтение. Любит возиться в огороде, ухаживать за коровой, готовить. Мечтает, что человеку, с которым она, наконец, подружится, приготовит что-нибудь необыкновенно вкусное... А подруги убеждают ее: «Ходи на танцы, а то и до ста лет ни с кем не познакомишься. Давай, мы тебя накрасим, намалюем, и ты пойдешь». И Таня делится своими сомнениями: что же, ей ходить на танцы, хотя она их не любит, краситься, бойко знакомиться или... «жить по-старому»?
«Почему ты такая недоступная и гордая?» — словно бы в продолжение разговора приводит автор другого письма, Ира П. из Латвии, слова, которыми ее отчитывал недавний приятель. «Надо быть проще. Думаешь, так выйдешь замуж? Я уверен, даю сто процентов, что ты не дождешься любви». И что же Ира? «Я все терпела,— признается она,— Только когда он сказал, что лишь в кровати рождается настоящая любовь, я его просто выгнала из дома. И теперь он ходит мимо и даже не здоровается. А вот я по-настоящему испугалась. Может, хорошего человека потеряла из-за своей недоступности? Может быть, действительно моя гордость сегодня смешна, а многие понятия старомодны?»
Заметьте совпадение слов и выражений «жить по-старому», «старомодны»... Любопытно, что «простота нравов» иной раз возводится чуть ли не в символ современности. Символу труднее противостоять, чем обычному, не облагороженному «теоретической подкладкой» приставанию. Впрочем, характерно и другое. Наши читательницы остро чувствуют несостоятельность, ненадежность связей, рожденных только желанием казаться современной, не отстать в этом от других. Таня И. видит, что у тех девчонок, кому она порой завидует, и не любовь вовсе. «Просто ходят с парнями в кино, в дискотеку, а настоящих-то чувств у них нет. Иначе разве могли бы они, не стесняясь, обсуждать, кто как себя вел вечером, кто с кем целовался?»
Откуда берутся представления, по которым современность приравнивается к развязности и которые допускают в поведении парня бесцеремонность, а девушке внушают сомнения в ценности чистоты, скромности, гордости? Ответить однозначно на это вряд ли возможно. Бесспорно, что за подобными случаями и влияние каких-то неудачных образцов эстрадной или телевизионной продукции, и недостаток образованности, знания истинного искусства, литературы. которые формируют культуру чувств, и, конечно, пробелы в воспитании (совсем не случайны в письме Тани И, например, печальные слова о том, что родители на нее обращают мало внимания, «им все равно, что я делаю»). Важно не обмануться, а увидеть суть: за «простотой нравов» — не равноправие, а скорее равнодушие к человеческому достоинству, к индивидуальности характера, его самобытности.
В самом стремлении следовать какому-либо образцу, авторитету нет еще ничего плохого. Смотря на чем держится этот авторитет. Можно ценить отвагу, благородство, гордиться ловкостью, начитанностью или техническим мастерством. Можно без колебаний бросаться на защиту слабого, презирать неверность, давать немедленный отпор хамству. По таким законам живут многие ребячьи и юношеские коллективы. Но бывает, когда в какой-то группе подростков верх берет другое: соревнование в марках джинсов или кроссовок, в количестве выпитого на вечеринке, в темпах завоевания приглянувшихся девчонок. Даже если случаев таких немного и они далеко не определяют течение нашей жизни, правы читатели, отмечающие их как тревожное, ненормальное явление, которому надо сознательно противостоять.
Жизненный опыт убеждает, что погоня за наносным, мнимым, выдаваемым за современное, отнюдь не приводит к счастью. Подобное заблуждение обязательно мстит за себя. В нашей почте есть одно красноречивое подтверждение тому. На сей раз автор письма — шестнадцатилетний житель Кировской области Слава Ш.
«Понимаешь. «Девичник», пишет он,— меня считают нахалом. Но я, конечно, сам этого не считаю. Подумаешь, девчонку поцеловать — какая недотрога! А кто этого сейчас не делает? Бывает и еще хуже, такой уж XX век.
Познакомились мы с Ленкой на танцах. К ней Сашок приставал, ну, а я ему врезал пару раз. С тех пор мы с ней дружили. Я в ней души не чаял. А тут такое дело. Решили у меня справлять 8 Марта. Я был с одноклассниками, она — с подружкой. В общем, я и без этого не был тихим, а тут еще вино. Я парням объявил, что, мол, оставьте меня вдвоем с Ленкой. Все вышли. А Ленка сидела спокойно, она же не думала, что у меня на уме. Я к ней подсел и начал ее целовать. Она вырвалась. А когда я расстегнул у нее платье, она заплакала и убежала. И на ходу крикнула, что я ей противен. Сейчас и сам понимаю, что я самый последний негодяй и свинья. Приходил к Ленке несколько раз, но она меня даже видеть не хочет. Что же делать?..»
В искренность этой исповеди хочется верить. Перед нами, как видите, очередной «теоретик», обвиняющий во всем XX век. И примечательно, что, назвав себя «последним негодяем и свиньей», он пока не задумался над ошибочностью самой своей позиции — «подумаешь, девчонку поцеловать...». А ведь исток случившегося именно в этом — в занижение моральных норм, в оправдании и самооправдании: мол, многие так поступают.
Заметим, что само знакомство Славы с Леной началось с того, что без долгих раздумий он «врезал» кому-то, утверждая таким способом свое право на дружбу с понравившейся девчонкой. И любопытно, что самые человеческие и трогательные слова в письме как раз слова «старомодные»: «Я в ней души не чаял...» Между тем без серьезного раздумья — что же все-таки несет XX век и чего он требует от каждого — Славе не обойтись, если он действительно решился предъявить себе строгий счет. Он не один, которому XX век представляется в виде какого-то гремучего и яркого набора понятий — джинсы, информация, акселерация, НТР, дискотека... А в итоге из этой смеси рождается нравственная неразбериха. То, что наш век требует повышенной ответственности, зрелости, культуры, к сожалению, подчас забывается или сознается слишком поздно, хотя отношения между юношами и девушками как раз и должны сегодня отличаться именно этими чертами, чтобы быть истинно современными.
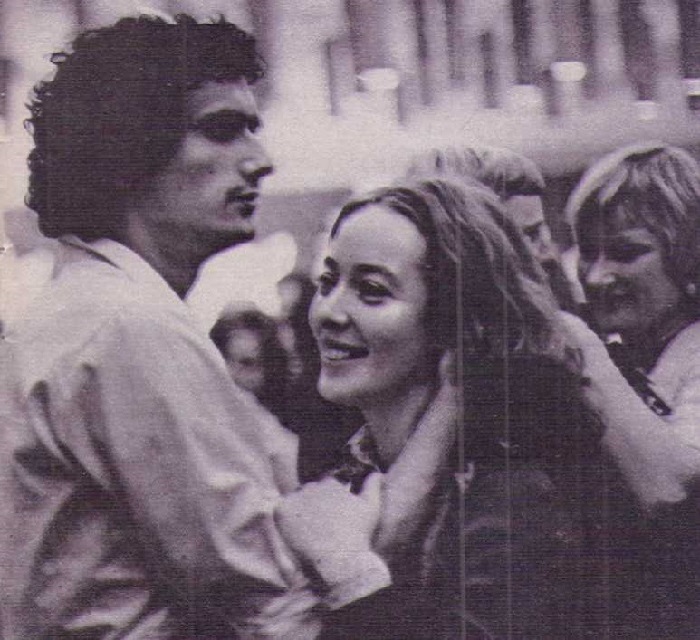
Культура предполагает, прежде всего, уважение к личности другого человека, внимание к его духовному миру. Наделенный ею человек, даже разлюбив, не сможет оскорбить или унизить другого человека, не нанесет ему дополнительной боли грубым словом, бестактностью. Культура чувств и отношений проявляется не только в минуты счастья, но и в сложные моменты разрывов, охлаждения, от чего никто не застрахован. Такую культуру воспитывают и семья, и школа, и искусство, и вся общественная атмосфера, все окружение. Чем более четки и определенны нравственные оценки в данной среде, чем тверже и авторитетнее позиции добра, человечности, тем вернее вырабатывается и в юном человеке бережное, рыцарское уважение к женщине. Так что отношения двоих отнюдь не замкнуты камерным миром, в них всегда отражается весь большой мир с его многообразием, противоречиями, сложностями. И, задумываясь над тем, отчего, скажем, в каком-то парне так явственно стремление к разрушению (в данном случае к разрушению доброго чувства), а не к созиданию, к безотчетному, мстительному злу, вряд ли верно будет объяснять это только его скверным характером. Может быть, это своего рода цепная реакция на равнодушие, с которым он где-то столкнулся, на задевшую черствость или фальшь? Может быть, напускная грубость стала для него защитной маской, предохраняющей от разочарования? Может быть, он уже успел испытать от кого-то отношение к себе свысока, кто-то не понял или унизил его? И теперь он в отместку унижает девушку, которой нравится: «Даю сто процентов, что не дождешься любви...»
Конечно, не прямые, не очевидные здесь связи, и тем более важно их искать и исследовать, чтобы сознательно противостоять чуждым нашему дню, хоть и рядящимся под современность нравам.
Нельзя умолчать еще об одном письме, отличном от других тем, что за ним уже не детская драма, а по-настоящему сломанная судьба. А исток — в тех же ложных представлениях о дружбе, любви и «современности», уже знакомых нам по почте.
...Идет очередная вечеринка с вином, и очередной юный «нахал» настойчиво убеждает свою приятельницу в том, что «лишь в кровати рождается настоящая любовь». Но в кровати любовь так и не родилась... Иначе не понадобилось бы потерпевшей дважды ходить к следователю, а происшедшее не стало бы достоянием всей округи, которая теперь с живым интересом следит за ходом событий: решится ли притихший «рыцарь» по имени Сергей на свадьбу или под натиском родни отступится, и будущий ребенок родится без отца? В этой истории приходится думать не только об ее главных героях — о девушке, написавшей письмо в редакцию, и человеке, поступившем с ней подло. Возникает и «групповой портрет» его родни, советующей отрицать случившееся, его соседей и знакомых. Дружно уговаривая человека лгать, они задают тот нравственный тон, который предопределяет оценки молодыми сложных жизненных ситуаций и соответствующее этим оценкам поведение.
Казалось бы, в описанной ситуации взрослые люди могли создать атмосферу нетерпимости к подлости и цинизму. В их силах было единодушно осудить легкомыслие и безответственность, взять под защиту будущую мать, поддержать ее. Но они лишь утвердили смещение понятий в незрелой еще душе, подменив общественное мнение, направленное на защиту нравственных норм общества, праздными пересудами, сплетнями, попустительством подлости. В результате молодым преподнесен урок антинравственности, урок наглядный и памятный.
Под конец — еще одно письмо, в котором как раз подтверждается, какой это первейший воспитатель — конкретная окружающая среда и создаваемая ею живая, взыскательная, нравственная атмосфера. Автор письма Р. Кондратьева, откликаясь на разговор о культуре чувств, начатый в статье «Одни, без рыцарей?..» (№ 2, 1983 г.), вспоминает о недавней собственной юности в родном селе.
«У нас был девиз — не жаловаться, не ныть! На нашем хуторе был маленький, старый клуб без заведующего, где только летом изредка показывали кино. А отдыхать и веселиться хотелось. С работы приходим,— и снова за работу: девчонки тряпки приносят, веники, а мальчишки — нам воду, и убираем. Пол свежевымытый, мы его бережем; если на улице дождь, переобуваемся. И начинаем танцы, игры. Учим мальчишек вальс танцевать, если стесняются — уговорим. Хуторок у нас маленький, но многонациональный. Мальчики-карачаевцы учили нас лезгинку танцевать. Украинцы — гопак. Одна девочка хорошо играла на гитаре. Мы сами готовили концерты к праздникам, сами придумывали розыгрыши новогодних лотерей.
На танцах мы все друг друга знали. Если кто старше, обращались как со старшим братом, если младше — как с младшим. А если двое нравились друг другу, то тут все бережней относились к ним. Но они не уединялись, а веселились вместе со всеми. Выходили из клуба все сразу. Мальчики-одиночки говорили: «До завтра!» — и быстро уходили, а девочку ее подружка со своим парнем провожали до калитки, а потом уже сами — вдвоем — гуляли и шли по домам.
Помню, пригласил меня парнишка танцевать, а сам изрядно подпил. Я не отказала, пошла — зачем его унижать при всех, когда можно тактично дать понять, что к чему. Так вот, я ему и говорю: «Петенька, ты меня прости, но, честное слово, меня тошнит от перегара». А он мне: «Ну, я отвернусь». Мы станцевали, но он больше никого не пригласил. Вот я и думаю, как много зависит от женщины...»
Право, хотелось привести его целиком, это письмо от читательницы Р. Кондратьевой из Александровского района Ставропольского края (она и теперь живет и трудится на том же хуторе, где росла). В чем обаяние этого простого рассказа, где нет ни особых красот стиля, ни жгучих откровений? В том, что" оно дышит человеческим достоинством, что в авторе чувствуется личность цельная и самобытная, такую не переманишь по первому капризу моды. И, повторяем, за рассказом Р. Кондратьевой, как и за предыдущим письмом, проступают определенная нравственная атмосфера и определенное общественное мнение, только полярно противоположное первому.
Здесь, на хуторе, благодаря дружбе и энтузиазму' молодежи действительно достигнута атмосфера равенства и взаимоуважения. Здесь равенство парней и девушек разных национальностей, равенство «одиночек» и удачливых в любви. Тут невозможно кого-то безнаказанно обидеть или унизить. Перечитайте письмо — по сути, в нем даны ненавязчивые, но очень точные и конкретные советы, как реально, на практике, по крупицам создавать и поддерживать такую атмосферу. Потому что она только и жива будничным делом, поступками, а не общими словами.
И чем шире будет круг, где правят именно такие законы — демократизма, справедливости и добра, тем меньше места и власти останется нравам, претендующим на современность, а по сути отдающим домостроевским прошлым.
Источник-журнал Крестьянка