Величие третьего кита
«Все, в конечном счете, зависит от того, какой человек будет работать, и управлять землей. Нельзя заново возделать русское поле, не возделывая души человеческой, не мобилизуя всех духовных ресурсов народа...»
Наши далекие предки были уверены, что земля прочно покоится на трех китах. Пусть они ошибались, и земля несется во Вселенной, поддерживаемая тем, что нельзя ни увидеть, ни пощупать. А все-таки не так уж и ошибались, и те сказочные «киты» подставляют свои широкие спины: киты труда, мира и надежды. И Земле не обойтись ни без одного из них.
А человек? Что для него основа основ, какие «киты» поддерживают его в жизни? Вроде бы разные основания у профессий доярки и балерины, штукатура и полярника, и не найти им общего знаменателя. Оно так. Но все же общая основа есть: наши способности и труд, понятый как счастливая необходимость, без которого просто нет ни уважения к себе, ни самой жизни. От природы данное, от людей взятое. А третьего «кита» мы созидаем сами — «кита» отдачи: сколько отдал, столько и стоишь. Не трудился, не отдавал — значит, и не было тебя, не было, и говорить не о чем. Много мог — мало сделал, кого, кроме себя, винить? Выходишь в поле, входишь в класс, покидаешь сцену под аплодисменты — это уж кому что дано, что у кого лучше получается, а суть одна: помог ли твой труд людям, что дал что вызвал: хлеб, знание, восторг...

В гостях у «Крестьянки» Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда директор совхоза «Азовский» Василий Головченко. главный редактор журнала «Театральная жизнь» Николай Мирошниченко, народная артистка РСФСР Клара Лучко, народный артист СССР Георгий Менглет, народный артист РСФСР, лауреат Ленинской премии Василий Лановой.
Г. МЕНГЛЕТ. Я человек сугубо городской, родился и вырос в Воронеже. И по-настоящему увидел землю, проникся к ней любовью и болью на фронте.
Помню один из наших концертов на передовой под Смоленском. Ехали дорогой, которая простреливалась врагом, по земле израненной и обожженной. Проезжали пепелища, которые совсем недавно еще были деревнями, и всякий раз сердце сжималось от ненависти.
Я был тогда художественным руководителем Первого фронтового театра Таджикской ССР и наш коллектив со своим театрализованным представлением «Салам друзья!» выступал перед бойцами в местах самых тяжелых сражений под Курском и Смоленском, на Украине, в Румынии. И сколько бы ни пришлось видеть сожженных сел, полей, перепаханных минами, захламленных разбитой военной техникой или просто превратившихся в горькие пустыри, невозможно было привыкнуть к земле, у которой отняли ее святое право цвести.
Об этом я думал и во время того концерта в окопах 9 октября 1943 года, когда к месту выступления пришлось ползти по этой самой земле, прижиматься к ней в поисках защиты, в буквальном смысле слова держаться за нее. Конечно, ни о каком большом представлении и речи не было. Скетч «Боевой товарищ» играли, стоя на коленях. В полный рост нельзя — пули свистели. Нас артистов, было пятеро, зрителей — снайперов — трое. Это были сильные, уверенные люди, по-хозяйски обжившие свой кусочек земли — окоп. После этого окопчика — другие. Опять играем на коленях, поем под сурдинку. Тихо вторит аккордеон. А сердце переполнено нежностью к этой изрытой, истоптанной, но такой единственной и родной земле, к этим бойцам в порванных, пробитых шинелях, с лицами, черными от гари и пороха. Именно тогда я и стал воспринимать землю как нечто живое, нуждающееся в силе рук человека, в тепле его сердца, в нежности.
К. ЛУЧКО. Так получилось, что уже одна из первых моих ролей в кино погрузила меня в самую гущу колхозной жизни. В комедии Ивана Пырьева «Кубанские казаки» я играла звеньевую Дашу Шелест, открытую добру и красоте девушку. Это я вместе с подружками по фильму пою песню, которая теперь стала, можно сказать, народной: «Ой, цветет калина в поле у ручья...»
Прошли годы, и вот снова роль женщины-колхозницы. человека великой душевной красоты, характера ясного, судьбы сложной. Донская казачка Клавдия Петровна из телефильма «Цыган» является как бы душой рассказа, его совестью.
Я. как мне кажется, даже не играла, а жила жизнью Клавдии, ее страданиями, горькой памятью, любовью к детям, надеждами на счастье...
Слиться, сродниться — ведь это святое бабье, но и не только бабье, а то, что переживала, перемогала страна, все мы, и поэтому то, что мою Клавдию Петровну окружало — хутор на берегу Дона, ферма, дом, односельчане,— все это стало родным. Мы были там, в страдании и боли, а рядом текла обычная сельская жизнь, но вот эта обычность и заставляла работать на самом высоком пределе профессионализма, потому что между съемочным коллективом и окружающими нас людьми установилась какая-то очень чистая, полная добра и доверия атмосфера: этот фильм был о них и для них, мы пытались сыграть, как и чем они жили, а они жили и помогали нам.
У Клавдии Петровны и Будулая (в замечательном исполнении молдавского актера Михая Волонтира) по сценарию мало совместных сцен, но с каким волнением я к ним готовилась! Как хотелось сберечь, показать трепетность и сердечность их чувства... Снимались заключительные сцены «Цыгана». В сознании тяжело раненного Будулая должна появиться Клавдия.
Как это можно снять? Как я должна выглядеть? Я подошла к Волонтиру и спрашиваю: «Михай, как вы думаете, какой я вам могу привидеться?» А была я в ту минуту босая, в стареньком платье, волосы распущены—ну, словом, как моя Клавдия дома ходила. Он внимательно на меня посмотрел и говорит: «Если можно. Клара, то именно так. Нуда так босая, в стареньком платье...»
Как же красиво можно снять в кино видения! Княжна—пожалуйста, королевна — бога ради но, наверное, именно ответственность перед зрителями и подсказала Михаю это точное решение: босая, домашняя, прекрасная женщина...
По многочисленным пожеланиям зрителей на экраны выйдут еще четыре серии нашего «Цыгана». Какая это радость — продлить жизнь дорогим для каждого из нас героям! Это наверное, похоже на возвращение в собственную молодость.
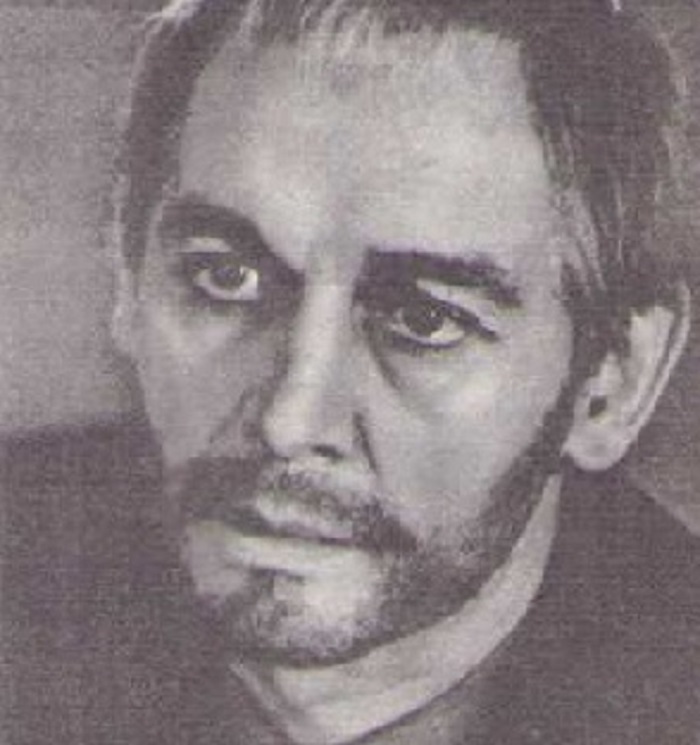
В. ГОЛОВЧЕНКО. Вернулся я с войны с тремя ранениями, чуть ли не записанным в инвалиды, а увидел, как разорена таманская моя земля, как горько пахнут обожженные войной сады, а за ними пепелища прячутся — и откуда сила взялась... Собрал из металлолома трактор и стал из танкиста трактористом. Работали тогда сутками. Днем пашем, а придешь с поля — бери в руки топор, кирку, лопату, мастерок — строй.
Вот уже четверть века директорствую в совхозе «Азовский». Принял хутор: полсотни старых хат да сарай, подбитый ветром — наша мастерская. Грязи — хоть утони, а воду питьевую надо за десятки километров везти по бездорожью. В наших колодцах вода, как рана, соленая — такова таманская целина.
Говорят, каждый кулик свое болото хвалит, однако же, кто бы к нам ни приезжал, все отмечают, как красив и благоустроен наш поселок, утопающий в садах и цветах, а ведь под садами та же соленая вода.
Ну что же не бедно живем, но мало этого, мало. Я как-то прочел у Федора Абрамова, большого знатока земли и крестьянского труда что нельзя возделать русское поле, не возделывая души человеческой...
Не скажу, что у меня много времени, но сам бываю в детском саду, беру старших ребят с воспитателями и веду на поле, на мельницу, в пекарню — вот, мол, хлеб, смотрите, как и что, и как донимают его солнце сверху и соленая вода снизу, и как мы, люди, не даем его ни сжечь, ни затопить, ни засолить. Глубоко уверен, здесь — в поле, на мельнице, в пекарне — ребята познают не только азбуку труда и нравственности, но и самоотверженной отдачи.
Уже невозможно представить нашу жизнь без книги, музыки, кино, без песни. В нашем сводном хоре и песенных кружках занимаются 250 человек. Песня наша — радость, веселье, и память о прошлом, и мечта. И отдых от напряженной работы, и напряженная работа души. Никто людей не зовет — сами идут: я тоже до недавнего времени в хоре пел так, до сих пор себя его участником чувствую.
Ну, это, конечно, свои артисты, самодеятельные. А вот что-то не помню я за последние годы, чтобы наш Краснодарский драматический театр приехал в совхоз с таким спектаклем, который бы серьезно и умно рассказал о наших радостях и болях. Да что Краснодар мне ведь и в столице частенько бывать приходится — так театры же не обходишь. Есть хорошие спектакли, красивые — про ученых, врачей, и комедии из городской жизни. Только наш брат хлебороб на сцене такой редкий гость! Наверное, тем, кто пьесы пишет и ставит, все мы кажемся на одно лицо, и лицо это невыразительное, скучное, вроде земляных кротов, и жизнь наша представляется скучной, как пыльная долгая дорога — знай себе вкалывай. Ох, не правы они, уж так не правы!..
...Казалось бы, все есть — и талант, и труд, без которого талант просто бы не проявился, и всего этого мало-мало, если не на максимальную отдачу направлена воля. Уж, какой природный талант был у Бориса Бабочкина, но потряс он мир, только встретившись с громадой народного характера: Бабочкин начался с «Чапаева», и равной роли встретить ему было не суждено до конца жизни... Уж на что виртуозна актерская техника Иннокентия Смоктуновского, а был бы он так популярен, не сыграй Юрия Деточкина в «Берегись автомобиля», в фильме, насквозь пропитанном народной верой в конечную чистоту и справедливость?.. Кажется, нет рели, которую не смогла бы сыграть Нонна Мордюкова, но что-то слишком уж давно нет ролей для нее, и не ее это вина...
В. ЛАНОВОЙ. На мое детство пришлись и война, и фашистская оккупация.
Мне было семь лет, я еще и азбуки-то не знал, когда сельский учитель Николай Иванович читал нам на украинском языке «Як гуртувалась сталь» Островского. Он предупредил, что если фашисты узнают про эту книгу, то его повесят. Мы рано повзрослели и понимали, что такое смерть и казнь. Никто не узнал об этих уроках, которые вместе с учителем-подпольщиком давал нам тогда Павка Корчагин — герой прошедший потом через всю мою жизнь, ставший для меня нравственным и гражданственным ориентиром.
На детство выпало и другое — испытать радость общения с землей, почувствовать ее вечную жизнь и красоту, приобщиться к нелегкому крестьянскому труду, ибо тогда, в военные годы, на разоренной оккупантами земле работали и старые и малые. Мы пасли коров. Взяв с собой «малай» — полу кукурузную лепешку мы сгоняли коров в стадо и босые, в холщовых домотканых штанах и рубахах уходили за деревню по утренней росе.
Очень верно сказал Антуан де Сент- Экзюпери: «Все мы родом из детства». Деревенское детство сформировало во мне понятие Родины, и это было и остается непосредственным и постоянным влиянием земли на меня.
Несколько лет тому назад в мою актерскую судьбу прочно вошел председатель башкирского колхоза Сагадеев из пьесы Азата Абдуллина «Тринадцатый председатель». Он абсолютно не похож на сыгранных мною до того персонажей в театре и кино. За мной укрепилось определение актера героикоромантического плана. Павел Корчагин, Цезарь, Дзержинский. Иван Варавва в «Офицерах» — такой характер, как Сагадеев, кажется, стоит вдалеке, да просто выпадает из этого блестящего ряда.
...Почти два часа в спектакле над председателем вершится суд. Он сидит и молча слушает выступления свидетелей обвинения и защиты. Суть дела в том, что этот коммунист, израненный фронтовик, возглавил самый отстающий. В районе колхоз, где до него было уже двенадцать председателей, и общими усилиями они развалили хозяйство, отбили у людей веру и желание честно, заинтересованно работать на общее благо.
Сагадеев стал, не дожидаясь разрешения «сверху», строить дома для колхозников, школу, клуб, щедро премировать достойных. Действия его не всегда регламентировались принятыми положениями финансовой дисциплины, но не потому, что сами действия были вредны, а потому, что его инициатива и хозяйский риск не укладывались в старые рамки. А раз не укладывались, значит, стали нарушением. Драматург затронул в пьесе очень болевую точку — проблемы хозяйствования по-новому. Но если бы это были только хозяйственные проблемы, то искусство оказалось бы ни при чем. Нас же интересовали люди, колхозники, включенные в конфликтную ситуацию, их мировоззрение, отношение к родной земле, возрождающейся усилиями, трудом, умом Сагадеева. В спектакле они, если можно так сказать, массовый положительный герой. Они приходят на суд и вступаются за председателя, видя в нем честного руководителя, болеющего за общее дело. Они прощают ему мелкие обиды, нанесенные им сгоряча, от отчаяния, прощают не потому, что разжалобил их, а ради того большого переворота, который он совершил не только в колхозе, но и в их душах.
Я знаю таких людей, стойких, преданных земле: они восприняли спектакль как подтверждение верности своих позиций. Когда меня спросили однажды, в чем корни достоверности сыгранного образа, я подумал: в сущности, ведь я шел к этой роли всю жизнь, начиная с далекого детства...
Н. МИРОШНИЧЕНКО. Хороший председатель на скамье подсудимых... Спектакль действительно вызвал большой общественный резонанс но давайте посмотрим на вещи пошире. Есть в Сагадееве какая-то бьющая в глаза жертвенность. А как хочется увидеть на экране и на сцене героя, который бы превозмогал самые суровые обстоятельства и который вызывал бы не жалость, не беспокойство за то чем кончится его дело, а восхищение и уважение. Их много, таких людей, очень много, доказательство тому — публикации в вашем же журнале, да и в конце концов путь к укреплению хозяйства через скамью подсудимых ведь не правило, а драматургическое исключение.
- С меня довольно было б чуда
- И велика была бы честь
- То слово вынуть из-под спуда,
- Что нужно всем, как пить и есть,—
писал Александр Трифонович Твардовский. Ждем этого слова. Может быть, больше, чем «пить и есть», ждем.
Великого русского советского актера Василия Качалова пригласили на киностудию, попросили, чтобы он прочитал Пролог к одному из первых советских звуковых фильмов — «Путевка в жизнь». Когда фильм вышел на экраны. Василий Иванович 27 раз ходил в кинотеатр и слушал себя. Ему корифею театра, никак было не понять, что однажды записанный на пленку голос уже никогда не изменить. А ему казалось, что все не так вот капельку бы кроху исправить... Уже слава «Путевки» гремела на всю страну, уже песенку распевали, которой в фильме не было: «Мустафа дорогу строил, а Жиган ему вредил. Мустафа ее построил, а Жиган его убил».— Василий же Иванович все ходил и ходил в кинематограф и слушал себя, и наконец, сказал жене после 27-го просмотра: «Кажется, на этот раз уже было ничего». Что это, милая чудаковатость великого мастера? Да нет максимальная отдача и огромная ответственность за свое дело, величие «третьего кита».

Источник-журнал Крестьянка