Творчество прозаика Георгия Пряхина
Тема послевоенного детства — одна из главных в творчестве молодого прозаика Георгия ПРЯХИНА. О трудной жизни и раннем взрослении ребят, оторванных послевоенной нуждой от родных, от дома, его повесть «Интернат».
Представляя ее читателям, лауреат Ленинской премии Чингиз Айтматов писал:
«Да, судьбы ребят драматичны, зачастую изломаны, и кто знает, как бы сложились они впоследствии, не будь рядом с ними учителя. Кати и всех тех взрослых, кто, не сюсюкая, как равные равных, ведут их в жизнь, «в люди» — с полной мерой ответственности, правдивости и доброты».
Рассказ «Табун», который мы предлагаем вниманию наших читателей, тоже об ответственности. Об ответственности всех перед будущим, перед человечеством.
Георгий Пряхин — член Союза писателей. Живет в Москве. В «Крестьянке» публикуется впервые.
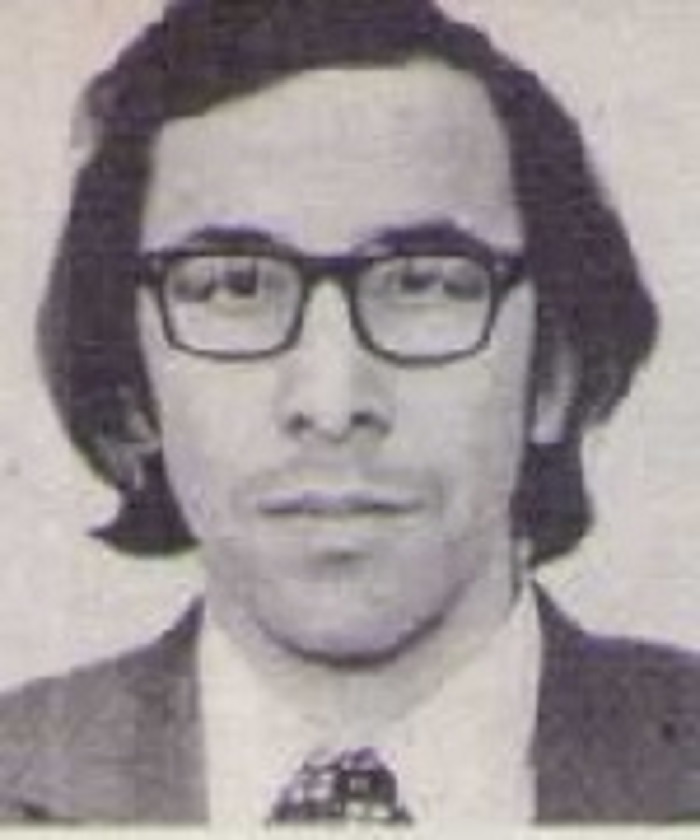
Я прилетел в Западный Берлин несколько позже установленного срока. Принимавшая меня молодежная организация была занята проведением массового антивоенного митинга. Заботу о переводчике препоручили какой-то туристской фирме. Вот почему появился именно этот человек, не соответствующий ни скромной комнате молодежной организации, ни самой организации, ни мне.
Он был старше всех нас, собравшихся здесь под пестрой сенью дешевых плакатов, в которых на скорую руку решались все мировые проблемы.
Но это была не старость. Это было затянувшееся межсезонье, когда непонятно, что на что меняется: молодость на зрелость или зрелость на старость. Он был в кожаной куртке, выношенной, мягкой, хорошо сидевшей на нем, именно сидевшей, а не стоящей колом. Сразу- видно, что он ориентировался в нынешней моде. Линялые вельветовые брюки, тенниска — одежда на все времена.
Что в нем угадывалось — сила. Она вздымала костистую грудь и чувствовалась в толщине и крепости шеи. Не шея, а дебелый пенек. Позже, когда мы познакомимся поближе, я узнаю: больше всего он гордится тем, что играет в волейбол в сборной района. Рядом с юношами.
И еще угадывалось, что он профессионал. Он мог быть вором, писателем, слесарем, но профессионалом. Человеком, знающим свое дело. И отсюда — цену себе.
Это угадывалось уже в том, как он вошел. В распахнутую дверь — распахнутым шагом. Короткий кивок хозяевам, беглый — как на сапог, который принимают в починку,— взгляд на меня:
— Этот?
— Этот,— сказали ему.
— Вальдо,— назвался он, протянув мне сухую, в бесцветных волосках руку — Проще говоря. Володя,— продолжил по-русски и, когда я уже был готов отпарировать (как-никак, а за рубежом собственное достоинство стережешь вдвойне): почему, собственно говоря, проще? Вальдо — так даже короче...
Когда я был готов кольнуть, он улыбнулся. Мне, отдельно, вычленяя меня из всех присутствующих. Как своему. Как мастер — работе. Принятому в починку сапогу, например.
Он переводил мне, не проявляя ко мне никакого интереса.
Я замечал: Вальдо говорит короче экскурсоводов. Старушка из музея, божий одуванчик, вправленный в черную рукавичку бархатного платья, минут пятнадцать нашептывала что-то над ксилографией Кете Кольвиц «Вдова», словно заговаривала ее, поминутно взглядывая то на меня, то на Вальдо. А когда закончила и наступил его черед, он перевел:
— В войну дети сиротеют в утробах.
И поволок меня дальше.
Не успевший перевести дыхание, божий одуванчик вынужден был влачиться следом.
Разговор со мной он понимал как исполнение служебных обязанностей. В перерывах между исполнением — когда мы, например, оказывались на улице, в метро — просто молчал. Стоял или шагал рядом, как случайный ПОПУТЧИК, и сосредоточенно молчал либо что-то лениво насвистывал. Профессионал, он берега словарный запас, как, скажем, певец бережет голос. Единственными вопросами, которые он мне задавал, были вопросы, касающиеся наших знаменитых военачальников: жив тот или иной, или умер.
Наши военачальники входили в круг его профессиональных интересов. Вальдо переводил их мемуары и тем зарабатывал на жизнь. Зарабатывал, надо полагать, неплохо: у него была квартира в городе и дом за городом, машина, на которой каждое утро подъезжал за мной в гостиницу, аккуратно парковал ее, и далее мы двигались городским или служебным транспортом, а то и на своих двоих.
Лишь однажды он вяло поинтересовался, откуда я родом. Я ответил.
— О, я в тех местах воевал — на Черных землях,— машинально сказал он.
Наверное, в наших отношениях что-то переменилось—с момента, когда он обронил эту фразу. Во всяком случае, переменилось мое отношение к нему. Я уже не воспринимал его как странного, но, в общем-то, симпатичного чудака: что с него возьмешь, у них тут все деловиты, как аптекари, от детей до пенсионеров. Нет, как-то враз ушла простительность, широта наша русская ушла. Я смотрел на него и видел жесткие, кайлом вырубленные скулы.
Они, не замечавшиеся ранее, проявились как скелет на рентгеновском негативе.

Вероятно, он почувствовал перемену. И однажды перед отъездом, когда мы сидели с ним в закопченном ресторанчике на четыре стола «У тирольских стрелков», а Вальдо, надо сказать, пил водку проще всех известных мне иностранцев, в том числе переводчиков: опрокинул стакан и туда же цыплячью ногу — никакого жеманства, он, подтаявший, с выступившими на щеках — так, наверно, камни плачут — каплями пота, сказал, бросая на стол выдернутую из-за ворота салфетку.
— Ты не думай, парень, я ведь не стрелял. Я всю войну был баллистиком. Знаешь, баллистик гаубичной артиллерии. Гаубичная артиллерия стояла за несколько километров от передовой, в тылу. Тебе дают координаты целей, и ты делаешь расчеты. Так что я воевал даже не с автоматом, а с листом бумаги. С миллиметровкой — усмехнулся он удачно найденной концовке.
Улыбка у него была неважная. Он как бы и меня приглашал улыбнуться и одновременно побаивался — не меня, а того, что я не соблюду приличия, протокола: начну спорить, горячиться, петушиться.
Словом, окажусь не столь профессионален. Ведь, в конечном счете, профессионализм — это чувство меры. Во всем.
Или чувство отстраненности?
Он зря побаивался. Не то, чтобы я был очень вышколен, просто, что я мог ему сказать? То, что ожило во мне, вряд ли было бы ему понятно, хоть и говорил он на русском отменно.
Оно и мне было не совсем понятно, не выговаривалось, не проявлялось словами.
Сколько раз приходилось наблюдать: где-то на самой закраине неба, как навильник пуха, оброненный на дальней, вылизанной колесами дороге, притулились несколько облаков. Прижухли, ничем не выказывая жизни. Умерли, забытые возчиком, небом. И вдруг дуновение ветра или неуловимая смена его направления, или чей-то неосторожный вздох нечаянно коснутся их, и облака придут в движение. Медленно выворачиваясь, подставляя солнцу то один бок, то другой, выгребают они на самый стрежень неба и плывут по нему, как из небыли.
Ожило случайно слышанное, даже не от матери — от дядьки Сергея, и поплыло по сводчатому небу памяти, обретая в ней плоть, кровь, жизнь. И все же оставалось пока безгласным. Как я мог перевести его «курлы» — на русский ли, немецкий ли — сидевшему подле меня чужеземцу? Этот перевод был непосилен ни мне, ни ему, лучшему, редкому, дорогому здешнему переводчику.
...Они спасались от войны в степях, что начинаются на восточной окраине Ставрополья и через Калмыкию тянутся к самому Каспию. Черные земли — называют их. Название происходит оттого, что раньше эти степи, говорят, не знали снега. Даже зимой здесь можно было продержать овец на подножном корме. Каждую осень со всей округи стягивались сюда многотысячные отары. Я еще застал времена этого неспешного овечьего перелета. «На Черные»,— говорили в селе и не добавляли при этом ни слова «земли», ни слова «степи». Всю зиму овцы паслись на Черных, а по весне, отощавшие, грязные, но перезимовавшие, а по тогдашним бескормицам. можно сказать, пережившие, переждавшие зиму, возвращались — с приплодом! — на старое тырло для мытья и стрижки.
Когда задула война, люди — женщины, дети, старики — потянулись на Черные. Переждать. Перезимовать. Здесь легче было прокормиться скотине, а стало быть, и человеку, сюда, думали, фашист не заглянет: что ему тут, в бурьянах, делать, сюда, надеялись, его не допустят — куда уж дальше...
Поначалу так и было. Жили на Черных и довольно сытно и относительно спокойно. Война только поменяла всех местами: мужчины остались на месте, то есть на войне, женщины, старики и дети пошли в «отхожий промысел» и хозяйствовали теперь там, где хозяйство спокон веку вела крепкая мужская рука.
Есть на Черных землях удивительное озеро — Маныч-Гудило. Оно как бы состоит из двух половинок, из сердца и предсердия, соединенных узкой подземной горловиной. На местном наречии — гирлом. Гирло лежит на небольшой глубине, и прямо над ним проходит пересекающая озеро степная дорога. Едешь по ней, остановишься, спустишься вниз, к полынно-горькой волне, и слышишь, как горячо, кровью, клокочет вода в тесной горловине, переливаясь из одной части озера в другую. Гудило! Ветер с юга — и волна бьет из сердца в предсердие, ветер с севера — и вода движется в том же направлении...
В какой-то момент войны все Черные земли стали такой же тесной горловиной. Гирлом, по которому, разрывая его, сама война поперла — кровью! — из одной части света в другую.
Ветер дул с запада на восток.
Сейчас даже можно хладнокровно высчитать эти дни...
Лето сорок второго. Выйти через степи, и через степи еще, к Сталинграду, и через степи же дотянуться к Баку.
Артподготовка.
И степь разверзлась, как могила. Как огромная, горячая могила — для женщин, детей, стариков, для сохраняемых ими отар, для сусликов и змей, для самой степи. Сначала они поползли — люди, суслики, змеи: так густо накрыла их смерть. Казалось, между снарядами, между вздымаемыми ими смерчами, уносившими в небо чабанские землянки, можно только проползти. Потом, ополоумев, побежали. Через разрывы, через ад кромешный, то ли по земле, то ли уже по небу...
Пока ползли, держались вместе. Когда побежали — растерялись. Мать, маленький брат ее Дима, нашедшийся лишь много лет спустя, уже при мне (кстати, он и по сей день не помнит, как попал в детский дом), и дядька Сергей, то есть тогда совсем еще не дядька, а босоногий, в цыпках четырнадцатилетний пацан, тоже, материн, брат.
Чего он не видел, мой переводчик Вальдо, оставаясь за сорок километров от «передовой»?
Не видел мою мать, простоволосую, оборванную и обезумевшую, уже не бежавшую, а понуро бредшую по степи и в адском грохоте тщетно выкликавшую братьев...
Чего не видел баллистик гаубичной артиллерии Вальдо? Дядьку Сергея...
Напутанные грохотом и кровью, десятка полтора подростков, его сверстников, как-то сами собой выделились из общей — слабой — человеческой массы и, скучковавшись, отбившись от нее, как иногда отбивается от стада резвый, но еще глупый молодняк понеслись, подпаливаемые страхом, по степи.
Не будем к ним слишком строги, тем более задним числом: то бежали, обогнав матерей, сестер и младших братьев, завтрашние заступники Отчизны. Пройдет год-другой, и, пользуясь несовершенством учета гражданского населения в военное время, а может, и напускной — не от хорошей жизни — доверчивостью военных комиссаров, многие из этих ребят так же, как дядька Сергей, выдав рост за возраст, уйдут на фронт...
Они, задыхаясь, бежали по степи, падали в балках, по которым с треском горел вызревший курай, и, отдышавшись, бежали дальше. Понимали, что вслед за снарядами сюда, в степь, придет живой враг.
Бежали люди, ревела и блеяла истерзанная огнем и металлом скотина, ползли вывернутые из земли степные гады...
У подростков были крепкие ноги подпасков и заклятых врагов окрестных бахчей, и пока их и без того не перегруженные головы выветривал панический страх, они, ноги, делали свое дело, босые, кровянившие, подбитые прогорклым от тротила ветром.
Неизвестно, куда бы они прибежали, если б не встретили на своем пути настоящий табун. Случайно слышанное мною замечание дядьки Сергея как раз к табуну и относилось. Кто-то сказал: не дай бог оказаться на пути вспугнутого табуна. А дядька заметил, что это, мол, когда как. Когда они пацанами бежали по степи от фрицев, то, как раз благодаря табуну и не попали в плен. Наткнулись на табун и побежали следом.
Сначала они испугались еще больше. Широко, захватывая их в кольцо, из которого уже не выбежать, не вырваться, неслась на них бешеная конница. Сбросив и. вероятно, стоптав извечного своего наездника — человека, она как будто сбросила вековые путы прирученья... Взнузданные страхом оборотни летели над степью, по-змеиному выгнув шеи и полоща степь жесткими хвостами.
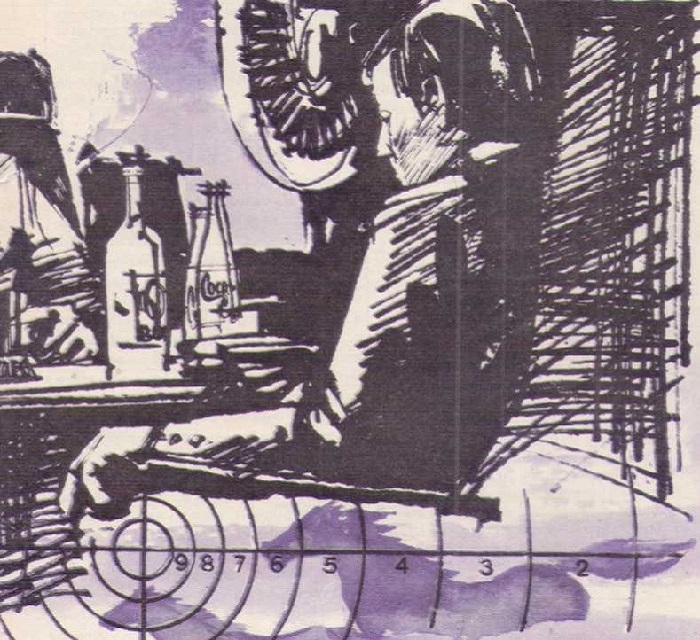
— Ложись! — крикнул кто-то из пацанов, и они успели вжаться в не поддававшуюся землю, и кони пронеслись над ними.
Поднявшись, они сообразили, что лошади бегут от врага.
Конь тоньше человека чует зверя.
И мальчишки побежали следом.
Чего не мог рассмотреть Вальдо, посвистывая над миллиметровкой?
Полезших из орбит конских глаз, в которых отсветы пожаров мешались с горячей капиллярной кровью...
Что я мог сказать ему? Спросил, есть ли у него дети.
— Детей нет — сказал, проницательно усмехнувшись. Вальдо. А потом как-то потух. И проницательность, пожалуй, потухла, ибо он стал рассказывать, что собирает в деревне сад камней. Вычистил купленную усадьбу от кустов и деревьев и стал собирать камни, валуны замысловатой формы. Сначала привозил их с поля, с окрути сам, а теперь, считай, и не возит. Местные крестьяне возят. Узнали, что за хороший камень у поселившегося по соседству горожанина можно получить пять-шесть марок, и прямо с поля, трактором, волокут. Особенно в пахоту — почва тут каменистая.
...Они встречались, моя мать и этот баллистик, если продолженьем дороги Вальдо, ее жалом считать траектории рассчитанных им центнерных гаубичных снарядов. Но после смертельного перекрестья Настя, моя мать, еще смогла родить троих сыновей, худо-бедно взрастить их и в срок, а точнее, до срока сойти в землю. Когда б ни умирали матери, это всегда до срока.
Вальдо собирает сад камней и переводит воспоминания победителей. Даже с такого большого расстояния выжигая чью-то жизнь, не остерегся, обжег, как лист, собственную душу.
Да здравствуют ошибки профессионалов! В предлогах, падежах, префиксах... И в числах!
Я ведь тоже полз, когда ползла мать, неродившийся, незачатый, и бежал, когда, ополоумев, побежала она. И звал ее братьев, то есть своих невыросших дядьев.
А здесь — тирольские стрелки в фарфоровых блюдах на стенах, пьяный Вальдо и я — его живая ошибка в логарифмировании больших чисел. Его промах.
Или ее, материнская, нечаянно забредшая «ода, на чужбину, в начале мая, в потемках бесконечных странствий взыскующая душа.
Источник-журнал Крестьянка