Поле с видом на город
Если ехать из Тернополя в сторону Черновиц, то первое, что увидишь: ряды аккуратных домов вдоль дороги, а потом — указатель с надписью «Подолье».
Так называется наш колхоз, который расположен сразу за городской чертой. Три деревни — Великие Гаи, Петрики и Великая Березовица, центральная усадьба — охватывают Тернополь полукольцом.

Судьба любого хозяйства, расположенного близко от районного или областного центра, складывается непросто. Наше не исключение. Я столкнулась с этим лет восемь назад, когда возглавила «Подолье». Колхоз был в то время из средних, высоких мест не занимал. Вспоминаю первые, особенно бурные заседания правления, когда мы вырабатывали общий путь, по которому должно было развиваться наше хозяйство. Уже тогда и я, как председатель, и члены правления, и главные специалисты отдавали себе отчет в том, что одно условие останется неизменным — соседство Тернополя.
Таким образом, первая же задача оказалась непростой — надо было добиваться более высокой рентабельности, конкурируя с городом. Почему я употребила слово «конкуренция»? Поясню. Скажем, еще в середине семидесятых годов для молодежи заканчивающей школу, не было альтернативы между городом и селом. С аттестатом зрелости многие парни и девчата направлялись прямо в Тернополь, на заводы и фабрики, где нормирован рабочий день, ну и, так сказать, поближе к городским : развлечениям. И мы буквально задыхались без рабочей силы, приходилось даже брать по найму людей из других областей Украины.
Обеспечить хозяйство людьми можно было, очевидно, только создав такие условия | для работы и жизни в «Подолье», при которых колхозники чувствовали бы себя не хуже, а возможно, и лучше, чем в городе. А значит, решили мы, надо строить жилье, наращивать основные фонды. На это уходило от 500 до 700 тысяч рублей в год, чуть ли не весь наш тогдашний доход, кстати, медленно растущий. Построили 24-квартирный дом, стали выдавать людям ссуды на сооружение личных домов с подсобными хозяйствами, возвели магазин, заасфальтировали дороги на центральной усадьбе. Появились в колхозе новый склад минеральных удобрений, зерноток, механические мастерские и гаражи, площадка для прицепной техники, свиноферма на 500 голов...
И уже через три-четыре года картина стала меняться в нашу пользу. Все меньше людей переходило из «Подолья» на городские предприятия, все больше заявлений стали приносить в правление: «Прошу принять меня на работу...» Как-то постучалась и вошла в мой кабинет женщина небольшого роста, в платочке, молча протянула мне заявление. Лицо ее показалось знакомым, где-то видела ее раньше. Вспомнила: Бычковская Ольга Николаевна, бывший полевод, еще в первые дни моего председательствования ушла из колхоза работать в городскую торговлю. Отговаривала я ее тогда, но ничего не получилось.
— Что же, решили вернуться? — спросила я ее.
— Да. Стефания Антоновна — сказала Бычковская — Вроде и в городе неплохо, а у нас все лучше, привычнее как-то...
Поколебалась я немного, но приняла Бычковскую: нет лучшей агитации для других, чем та, когда люди возвращаются в колхоз. И сколько с тех пор вернулось в «Подолье» механизаторов, полеводов, животноводов! А тогда вместе с Ольгой Николаевной перешел к нам и ее муж. Жили они в общежитии, денег на постройку собственного дома не было, поэтому правление выделило семье квартиру, детей пристроили в садик. Кстати, в этом году мы новый детский комбинат выстроили, ясли-сад. двухэтажный, большой и красивый.
Так мы преодолевали — и преодолели! — дефицит кадров — настоящий бич для пригородных хозяйств. Как же выглядит сегодня хозяйство? В трех деревнях «Подолья» живет более 11 тысяч человек, 1151 из них — члены колхоза. На время сезонных работ правление привлекает столько людей, сколько требуется. Политика правления сейчас такова, что мы не только не стремимся увеличивать число работающих, но и пытаемся сократить его за счет индустриализации растениеводства, механизации ручного труда в животноводстве, за счет повышения производительности труда.
На что мы могли рассчитывать, наращивая выработку продукции на одного работающего? Взять растениеводство... Пахоты в «Подолье» больше трех тысяч гектаров. Земли черноземные, но с малым гумусным слоем, поэтому требуется тщательно соблюдать севооборот, обрабатывать землю осторожно, в точности выполняя агротехнические правила. Зерновые мы выращиваем уже без применения ручного труда, на индустриальной основе. Другое дело — свекла. Здесь хлопот больше, и очень многое зависит от сознательности людей. Поясню, почему.
Сеем сахарную свеклу механизированным способом. А потом, когда растения начинают вегетировать, члены полеводческой бригады распределяют между собой делянки, от 2 до 5 гектаров, и ведут прополку, обработку рядков вручную. Этот период крайне важный, и от усердия людей, их добросовестности зависит будущий урожай. Большинство полеводов у нас опытные, работают давно. Но важно еще стимулировать их труд, добиться того, чтобы человек с весны до осени боролся за каждый центнер, был кровно заинтересован в высоком урожае.
Поэтому уже больше пяти лет все три наши полеводческие бригады работают по принципу хозрасчета, труд их оплачивается по конечному результату — количеству свеклы, принятой сахарным заводом в зачетном, «чистом» весе. Из чего складывается заработок свекловода? Прежде всего, он делится на основной и дополнительный. За весенние и летние работы член бригады получает зарплату в пределах 80—100 рублей в месяц основной оплаты. Это как бы аванс. Зато в конце года, при сдаче свеклы на завод, свекловодам начисляют примерно по 37—40 копеек за каждый центнер в зачетном весе. Получается около 260 рублей на каждый обработанный гектар. Вот и прикинем: если свекловод имеет делянку, скажем, три гектара, то по конечному результату он получит около 780 рублей плюс сахар натуроплатой.
Это выгодно и колхозу: люди борются за урожай, который повышается из года в год. За полеводческой бригадой Богданы Бузукиной. например, закреплено более, тысячи гектаров земли, десять полей в севообороте. Выращивают озимую пшеницу, многолетние травы, кукурузу, ячмень. И. конечно, свеклу. В 1981 году бригада получила по 493 центнера сахарной свеклы с гектара в зачетном весе, в 1982-м — 505. А в прошлом — уже 577 и теперь нацелилась на 600.
За счет чего же растет урожай? Во-первых, тщательно проводится весенний сев: безукоризненно, на совесть — летняя обработка рядков. Во-вторых, ведется борьба с потерями — фактор, чрезвычайно важный в полеводстве. Для свекловодов не секрет, что комбайн КС-6 оставляет в земле чуть ли не треть корнеплодов, подрезает их. Во время уборки полеводы бузукинской бригады идут следом за комбайном с мешками и подбирают свеклу. Потом еще раз перепахивают поле и снова подбирают.
Пока у нас полеводы — универсалы. Их и на прицепной технике весной увидишь, и летом в поле с тяпкой в руках, и осенью возле уборочных машин. И это конечно, плохо. Производительность труда становится выше тогда, когда работник специализируется на выполнении одной-двух операций. Если, предположим, он, применяя новейшую технику, выполняет работу на большей площади, если культура, которую он возделывает, лучше всего произрастает в данных условиях. В этом отношении мы тоже не стоим на месте. Недавно стали культивировать новый сорт сахарной свеклы, «веселоподолянский-29», наиболее пригодный к механической обработке. Уже в прошлом году часть сахарной свеклы сеяли, обрабатывали и убирали без применения ручного труда. И недалек тот день, когда и свекловичные поля станут обрабатывать только механизаторы.
Если урожайность свеклы растет, то с зерновыми дело обстоит похуже. В среднем по 36 центнеров с гектара собрали озимой пшеницы в прошлом году. Для наших черноземных земель это вовсе не достижение, могли бы брать по 47—50 и выше. И здесь ведется последовательный поиск.
Осенью восемьдесят третьего хорошо созрели хлеба, а перед самой уборкой полили дожди — не такая уж редкая для наших мест погода. Механизаторы с полей не уходили, выжидали: как только солнышко покажется, подсохнут колоски — так молотить. Подъезжаем к полю мы с главным агрономом. Верой Михайловной Ищук видим — собрались механизаторы в кучку, что-то обсуждают.
— Почему — спрашиваем — не молотите?
— А как работать? — ответил один из них — Во многих местах пшеница полегла... Только вон на том поле, видите,— он показал в сторону рукой — стоит, целехонька, как ни в чем не бывало...
Мы с Верой Михайловной знали, что ранней весной органики на поля вывезли много—по 50, 60, а то и по 80 тонн на гектар. Земля лучше некуда, но плохо держит стебельки с полновесным колосом, клонится к земле пшеница. Убирать ее конечно, трудно, и потери велики. А на одном поле. 20 гектаров, с осени высеяли новые озимые сорта, стойкие к полеганию. За ними загодя ездили в Киев на опытно-селекционную станцию. Осенью этого года решили засеять уже 100 гектаров новыми сортами, меньше будет потерь, значит, выше урожай, ниже себестоимость одного центнера продукции.
Чтобы поставить настоящий заслон материальным потерям, надо .учиться считать, смелее внедрять новое, даже если это новое связано с риском. А не рискует только тот, кто не действует.
Еще не так давно мы платили за центнер семян красного клевера по две тысячи рублей. Это очень крупные расходы даже для такого хозяйства, как наше «Подолье». Решили выращивать сами. Посоветовались с главными специалистами, пришли к мнению, что надо попробовать сеять клевер широкорядным способом. При нем резко сокращается расход семян на гектар посева — с 18—20 килограммов до 3—4. Честно говоря, в нашу затею мало кто верил. Председатели соседних колхозов посмеивались, а в райсельхозуправлении мы выдержали настоящее сражение, но выиграли его. Результат? Урожай клевера теперь стали получать вдвое выше, семена у нас свои. Потянулись к нам за опытом из других хозяйств, теперь местные колхозы пошли по проторенному нами пути.
Многие годы растениеводство приносило нам большую часть дохода. А полтора года назад «Подолье» изменило специализацию: к нам присоединили межхозяйственный комплекс по откорму крупного рогатого скота на 6000 голов. Пришлось нам в срочном порядке перестраивать систему земледелия таким образом, чтобы обеспечить себя кормами. Резко увеличили площади под горох, почти вдвое — под кукурузу на зеленый корм, многолетние травы. Появились у нас новые культуры, как, например, кормовой щавель «руменс» — по 800 центнеров зеленой массы с гектара он дает.
Мне с животными работать не впервые, и вообще-то я животновод по образованию. Поэтому у нас с Верой Михайловной Ищук произошло как бы разделение труда: она полностью отвечает за растениеводство, я курирую животноводство. Первый год приходилось целые дни проводить на комплексе, налаживать работу. Каждый, кто знаком с этой отраслью, знает, что главное условие привесов — правильный рацион кормления, разнообразие кормов, точная их сбалансированность по белку. И тут были просчеты. Сначала увлеклись жомом — мы его получаем с сахарного завода после переработки нашей же сахарной свеклы,— животным стало не хватать фосфора. Не хватало зеленых кормов, богатых различными витаминами. Но, в конце концов, и это испытание мы выдержали с честью. Конвейер откорма бычков хорошо налажен, стали стабильными суточные привесы на нашей «фабрике мяса». В 1983 году чистый доход колхоза составил 3 миллиона 490 тысяч рублей, из которых 2 миллиона 156 тысяч мы получили за счет животноводства.
Но дело не только в высоком доходе. Всеми своими успехами колхоз обязан, прежде всего, людям. Таким, как бригадиры Евстахий Андреевич Искра и Лидия Олимпиевна Войнаровская, как заведующий мастерскими Михаил Петрович Солан механизаторы Иван Петрович Швец. Теофил Иванович Задорожный. Павел Федорович Гладкий, и многие, многие другие — трудно всех назвать поименно. От их способности к самоотдаче, их отношению к земле зависит будущее.
«Сегодня перед нами стоит задача — выйти на более высокие рубежи в производстве зерновых, технических культур и обеспечении народа продуктами питания, и прежде всего мясом, молоком, плодами и овощами»,— сказал на Всесоюзном экономическом совещании по проблемам агропромышленного комплекса Генеральный секретарь ЦК КПСС К. У. Черненко. Эти слова определяют для нас цели дальнейшей работы.
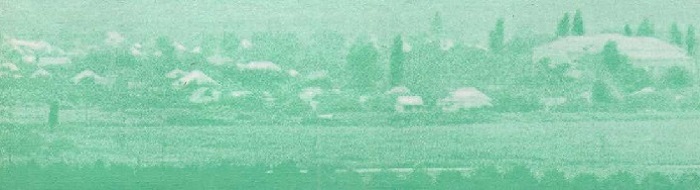
Вы помните, с чего я начала разговор? Колхоз рядом с городской чертой. Деревни, в которые можно добраться рейсовым автобусом прямо из центра... Все это, конечно, сказывается на колхозе. Через колхозные поля шагнули опоры электропередач и связи. Подсевать возле этих многочисленных столбов и убирать урожай — мучение. Под землей прокладывают коммуникации. Горожане норовят сбросить мусор на колхозную землю, а по посевам озимых осенью бродят бесшабашные охотники. Глаз да глаз нужен за землей, и поэтому охранять каждый гектар самым бдительным образом вошло в привычку подольчан.
Но я думаю, что из-за близости города и связанных с нею сложностей еще дороже для колхозников эта земля. Попробуйте погожим июльским днем проехаться вдоль наших полей. И вы увидите аккуратные свекловичные плантации, ровные зеленые ковры люцерны, пшеницу с наливающимися колосьями. Вы увидите по-хозяйски прибранные палисадники у домов, строго вытянувшиеся в одну шеренгу на мехдворе тракторы и комбайны. И море цветов на площади перед правлением. Да, теперь мы и такое можем себе позволить — три тысячи кустов роз высажено прошлой осенью возле конторы...
Вот так мы живем и работаем в своем колхозе, одном из многих на Волыно-Подольской возвышенности. И уверенно смотрим в будущее.
Источник-журнал Крестьянка