Народ и народное творчество
Открытие сделала молодая сотрудница Ставропольского краевого научно-методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы Люда Герасименко: «Интересно! Но не могу понять, что это такое, у нее какие-то странные, ни на что не похожие вещи».

...Высоко над головой, на конце вкопанного в землю шеста сидел орел. Мерцал тусклой позолотой сложенных крыльев, которые, если 6 размахнулись, захватили б, наверное, метра полтора. Но орел сидел неподвижно, излучая спокойствие и силу, придерживая гранеными когтями змею.
Неподалеку, тоже на шестах, закрывал кусочек синего неба парусник, запряжкой белоснежных лебедей влекомый откуда-то из страны детства. В отличие от царя птиц в силуэте корабля была скорость движения.
Эти то ли украшения, то ли символы странно выглядели на фоне посеревшего от времени, некрашеного дерева сарайчиков, висящих на жердях связок кукурузных початков, собачьей будки и прочих обычных предметов, населяющих сельский двор. Однако, вынесенные на передний план, к забору, они явно назначались на главные роли, а все остальное во дворе было для них лишь задником, даже белая мазанка с маленькими окошками и синими наличниками.
В этом доме я провел ночь, проспав до того раннего часа, когда через оконные стекла забрезжил свет, а из противоположного угла комнаты стал слышаться шепот: «Дед. А дед» Что-то сон я видела нехороший. Будто на руке у меня пальца нет. Может с сынами что?»
Так начался день в селе Заветное, что в Ставропольском крае, у Аграфены Герасимовны и Ивана Илларионовича Иванченко. Они пенсионеры нынче, а до выхода на пенсию проработали в колхозе с первых дней коллективизации. Впрочем, был у Ивана Илларионовича перерыв — когда он воевал с фашистом тяжелой артиллерией. Вся остальная их жизнь — труд на земле. Вот так, стало быть. Да еще они родили и вырастили семерых детей.
Собственно, биография-то типичная для крестьянской семьи их поколения. Так же, как и дом их типичен для сельских жилищ послевоенной постройки — и снаружи и изнутри. Входящего встречает въевшийся запах от приготовления пищи для людей и скотины, поскольку в горнице стоит разлапистая печь, жестяной перестук ходиков, лоскутный ковер на полу, ножная зингеровская машина в углу, в другом — накрытый салфеткой телевизор: репродукции из «Огонька» на стенах и семейные Фотографии. Из памяти Аграфены Герасимовны чередой выплывали рождения, смерти, свадьбы, болезни, строившиеся или сгоревшие хаты, размолвки с невестками, встречи с сыновьями — словом, густой поток жизни, нескончаемая «Сага об Иванченках».
— Вот на ций фотографии Николай и Володя, они сейчас в Куйбышеве, на строительстве работают. Это Сергей, когда во флоте служил. Это Толечка на своем самосвале. А вот Виктор, первенький мой. Он погиб... Такой был умный! Помню, только в школу пошел, а уже спрашивал — «який человек в нашей стране наинужнейший, на того и буду учиться». Ну, окончил школу с медалью, пошел в институт по радиоделу. И после, как в институте отучился, отличили его: сразу предложили работу большую.
Любили его товарищи. Он всегда на выручку приходил, если кто-то в беду попадал. Потом ко мне, до моей хаты приезжали двое, много о Вите моем рассказывали. Самые важные задания ему давали, знали, что выполнит...

Неожиданно Аграфена Герасимовна запела с тоскливой протяжностью:
- Я ночей не спала,
- малого дитя колыхала.
- Растила, учила.
- в двадцать девять лет похоронила.
- И опять и опять мне ночей не спать.
У меня про всю мою жизнь сложено. Соседки пытают: «Как это у тебя морщин мало» «Так я ж пою, и лицо разглаживается!» Правда, легче — с песней горе выходит...
Она переживала-проживала еще раз прошедшее.
Их новый дом стоит здесь же во дворе, рядом со старой мазанкой, в которой живут старики. Высокий, трехоконный по фасаду, белого кирпича, под сияющей оцинкованным железом крышей, он мало чем отличается от других домов на улице — такова сегодня архитектура зажиточного села. Да только зачем же это хорошее современное жилье Иванченкам коли не живут они в нем?
— Очень хотелось, чтобы кто-то из сынов приехал с нами жить. Я ведь без них так скучаю.
Корову тогда продали, купили кирпича, цинку на крышу, каменщиков наняли, и вышел хороший дом.
А дети пока не приехали. Николай и Владимир в Куйбышеве укоренились — там работают, почетные грамоты получают, квартиры им дали, женились на городских, куда там...
Сергей, тот живет недалеко, в Ставрополе, шофером работает, к нам часто заезжает. На него надежда крепкая — хозяйство любит, и чтоб живность у него была, деревенский, словом. И совсем уж собрался было, да жена пока не решилась.
Итак, дом. Снаружи похожий, как уже отмечалось на своих соседей по улице, а вот внутри... Дом ли дворец? Не было у создателя этого дворца ни мрамора, ни хрустальных люстр, ни гобеленов, а были только самые простые, заурядные и дешевые материалы.
Яркие мозаичные картины из кусочков цветных стекол и зеркала, цементным раствором закрепленные на стенах. Рядом висят большие рукодельные ковры — аппликации очень сочных красок. На потолках — пышная лепнина розеток, в которых подвешены люстры. Обычные, трехрожковые, украшенные блестящими елочными бусами и шарами.
Отблеск праздника — на каждом предмете.
Вот кровать — сияют медные шишки, отсвечивает белоснежная гора подушек, утопающая в кружевной пене, по шелковому покрывалу вспыхивают разноцветные звездочки бисерной вышивки.
Вот заурядный кухонный буфетик, крытый коричневой фанеровкой — по ней пущены накладные вензеля (из провода в белом хлорвиниле), а из глубин буфетных сверкает яркими цветами наклеенная на стенки клеенка.
...Что можно сделать из жестяных часов-ходиков с худосочными гирьками, цена которым. как свидетельствует чернильный штамп на обратной стороне циферблата, «4 руб. 50 коп.»? Ну, конечно же, как и потребно дворцовому интерьеру, монументальные напольные часы. И весьма скромный прибор времени утопает в огромном, в рост человека, футляре. Футляр украшен резьбой не резьбой, а вроде бы из чего-то вылепленными рельефными переплетениями цветов, ягод, покрытых красками — зеленой, красной и «под бронзу».
Все вокруг густо, ярко. Это как праздничная красота ярмарки — с расписными кару-селями, разноцветными флагами, гирляндами фонариков, яркими вывесками, и лишь смутное воспоминание о чем-то подобном хранится в памяти.
Первое впечатление — декорации какого-то спектакля-сказки. Зрителя окружают заросли фантастических деревьев, на ветках которых сидят экзотические птицы, а под ними — звери в гуще трав и цветов, фигуры людей. Вот всадники в кольчугах и шлемах, человек в короне едет верхом на красно-синем петухе, охотник с собакой... Еще и еще фигуры — и небольшие, в локоть как говаривали в старину, и в натуральный рост.

Лишь через несколько минут, когда пройдет «зрительная контузия», можно начинать разглядывать «Эрмитаж Аграфены Герасимовны» без суеты и пристально. Тогда окажется, что комнаты уставлены по периметру отдельными композициями. Основание композиции — вылепленные из папье-маше горка, или утес, или поляна. На них и растут деревья, стоят и лежат звери, безмолвно разыгрывают какие-то сцены люди — тщательно, до мельчайших деталей выделанные куклы. Это именно сцены,— в позах персонажей, их жестах, мимике есть дыхание большой, мощной сценической формы. И вновь на зрителя наваливается изумление, едва он вспоминает, что находится все-таки не в музее, а в обычном сельском доме.
— Дом построили, а жить пока некому — пусто, некрасиво как-то. А я больше всего не люблю, когда некрасиво. Ходила- ходила по комнатам — гулк! гулк! — думала, что делать. И была у нас на стенке картина — «Богатыри». Посмотрела — а не хватит у меня ума сделать такое? Встала ночью... Вообще мне ночью лучше думается. Может быть, потому, что днем некогда? Тогда я взяла проволоку и согнула, чтобы получилась лошадь. Получилась! Обмотала проволоку бумагой, чтобы мясо у моей лошади выросло, а сверху обшила ватином. Потом надо было сделать копыта морду — как? Думала-думала, взяла густотертую краску, насыпала в нее цемента, вымесила как тесто — давай лепить!
Так я всех лошадей сделала, а потом выкрасила масляной краской. Стала думать, как мне людей делать.
И зажили «Богатыри» художника Васнецова в новом обличье, сотворенные Аграфеной Иванченко. Однако ошибется тот. кто подумает, что сделала Аграфена Герасимовна некую объемную копию знаменитой картины. Не такой у нее характер, чтобы копировать.
Высокие, метра по полтора, три скалы. Лицом к зрителям стоят на них три всадника. Красавцы кони — белый, вороной и буланый, пышные гривы свисают, тонко выделаны (из жести) доспехи богатырей, оружие, даже миниатюрные стрелы торчат из колчанов. Внизу, на скалах, белеет надпись, повествующая о трех путях-дорогах, по которым могут двинуться, добры молодцы, и что из этого получится. А вдобавок к каноническому сказочному тексту веление матери Родины своим сынам — биться с ворогами до последнего... Читать все это, правда, неудобно — надписи сделаны вверх ногами. Зачем? «Чтобы богатыри могли прочитать сверху!»
Вообще-то композиция гораздо сложнее. Ее окружают деревья, горки, птицы, звери, цветы, драматургически связанные в произведение. По сути, рассказывает Аграфена Герасимовна о том, что произошло с васнецовскими богатырями, сочинив «объемную былину». Вот начало ее — уже знакомый нам «общий план» в центре, последний совместный дозор, после которого разойдутся дороги воинов. Подойдя поближе и заглянув за спины всадников в глубину сказочного ландшафта, зритель вновь увидит те же фигуры, но уже разъехавшиеся в разные стороны. Вот, огибая три скалы, вьется тропинка, по которой спускается понуривший голову всадник — это единственный уцелевший герой, скорбящий о погибших друзьях. Последний кадр: въехал он на одинокий утес — так, что оказался спиной к зрителям, вроде бы их уже защищая от нападения. По напряженной и решительной позе чувствуется, что видит богатырь врага, с которым предстоит тяжелый, может быть, смертельный бой. Над всадником — осеняющий его крыльями орел, символ силы.
Слово «кадр» употреблено намеренно: что-то есть во всем этом от кинематографа — монтаж разновременных планов, резкое, скачками, движение действия от одной сцены к другой. Надписи же на скалах, словно титры.
— Многие мне вопросы ставили: как это ты, мол, можешь уточнить человека, что там должен быть? Одна соседка пытала: «У тебя вот дьявол, что ты его бачила?» «Да где ж я его бачила? Ну, представляла». «Нет. Иванчиха, что-то не то».
Ну как можно уточнить лицо или фигуру одежду? Я хожу по хате, думаю-думаю и ничего больше делать не могу и не ем даже. Прямо как дурная — на печку лягу, руки на глаза положу и думаю так, что голову болит. Вдруг придумала! Беру проволоку, загибаю — и пошло!
Но фигуры сделать проще, а вот сложение их — тут надо подумать еще покрепче, что к чему приложить, чтоб сказка получилась, чтоб интерес был и красота, чтобы самой нравилось и людям в душу вкладывалось.
Значит, решить надо — куда кто у меня пойдет, что делать будет или скажем, какой конь под ним. Бывает, что из случаев беру. Вот этот конь — откуда он такой? Дед мой был кузнец, ковал лошадей, делал брички, фаэтоны. Раз такое с ним случилось: работал, вдруг слышит — зовут его. Выходит из кузни, видит — сидит на лошади кто-то черный, вроде цыган: «Купи, кузнец, коня!» Посмотрел дед, держит тот в поводу жеребца — черный, как ночь, глаза огненные. Хорош! Купил, хоть и дорого запросил тот вроде цыгана, который.
Ну, повел он коня на реку поить. Идут, бабка рядом с коромыслом, по воду. Пришли, стал пить жеребец. Пьет, пьет, да все почему-то на задние ноги присаживается. Вдруг видят — у него крылья из-под лопаток стали расти. И как взмахнет крыльями, ф-ф-фырь улетел! Бабка коромысло в воду уронила, крестится, дед через реку бросился плыть вдогон, да только где ж его было догнать, он уже не больше птицы казался.
Вряд ли мы узнаем, автор ли этого «случая» Аграфена Герасимовна, или достался он ей по наследству от деда. А вот что, наверное, передалось от деда-кузнеца — это большой талант рук. Кажется, все они могут, если что и не умеют, то быстро научатся. В хате, где живут старики, печка необычной конструкции: топка без дверцы — дрова и уголь кладут в нее прямо через конфорку, да и форма какая-то «нетиповая». «Заболел у нас в селе печник — рассказал Иван Илларионович,— а нам надо было печку переложить, прогорела старая. Она пошла к печнику, порасспросила, потом сделала по-своему. И в новом доме две печки сложила. Топят хорошо».
— Девчонкой в колхозе я дуже здорово работала. Бывало, идут по полю сразу три сноповязалки, с каждой по пятнадцать снопов падает, и пока они назад повернут, и опять до тебя дойдут, надо успеть те снопы оттащить, перевясла скрутить, перевязать ими да уложить. Первый раз вышла — только успевала бегать. Тогда придумала — вечером не пошла с поля, а села перевясла крутить. Товарки мне: «Ой, на черта нужно!» Ладно. На другой день я сразу три снопа хватаю — раз, раз, готово! И еще время остается — пока машины назад придут, сижу на снопе, рубашечку вышиваю. Трактористы мне кричат: «Ну, Горпешка, хоть бы тебе такие сыночки, как у тебя снопочки!»
Ухватистая я была, движения такие резкие, быстрые. А уж пела! Бывало, идем мы. молодежь, вечером по хутору и такие песни заводим…
В ее «Эрмитаж» уже сочится тоненькая струйка людей: из далеких городов приезжают любители диковин, начинают приглядываться музеи, и очень нравятся ее богатыри, русалки, зверье детям из местного интерната — был бы талант, поклонники найдутся. Был бы талант... Напоенный опытом и мудростью жизни, он живет в этих людях, иногда прорываясь ярко и быстро, иногда же будто дремлет он, как в случае с Аграфеной Герасимовной, отодвигаемый реальностями жизни, но живет всегда, невидимо освещая и жизнь и труд, живет, ждет своего часа — и важно разглядеть его в себе и в других, восхититься, разделить, как песню — одну на всех...
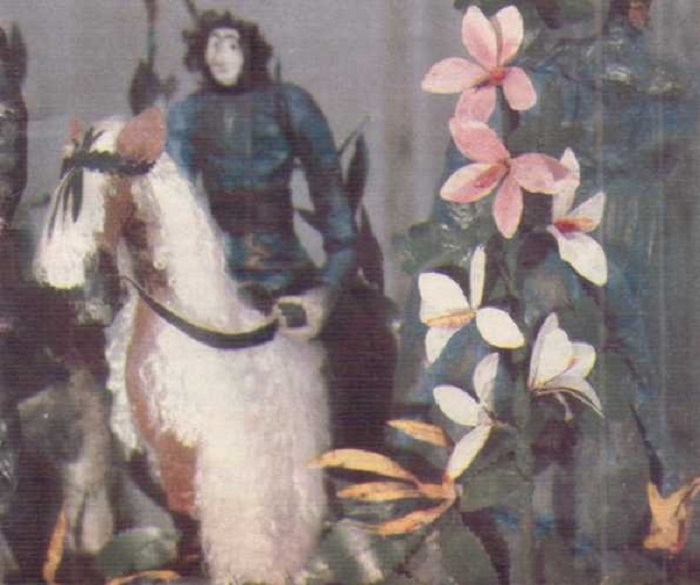
Стоят рядом два дома. Один — старенькая саманная хатка, предназначенная для сна и всего, что связывается с понятием «будни». Это, так сказать обыкновенный дом. Другой — большой, добротный — наполнен мерцающей красотой праздника и фантастическими сказочными мирами.
Два очень разных дома — как материальные воплощения двух половинок души — крестьянки и художницы Аграфены Герасимовны Иванченко.
Они, эти половинки, постоянно взаимодействуют, подчас борются даже: «В магазине увидела цветной гипюр, красивый! Думаю — зачем мне, скоро семьдесят. Да только вспомнила, как жизнь жила, как зимой на ноги нечего было обуть — семеро детей, где там было одеваться... И купила на кофточку!»
В ее «фигурах» (так она называет свои работы) — ее жизнь. Воспоминание об отце — «Партизан»: «Кулаки его ненавидели. Однажды поехали мы в соседнее село, а из леса за нами банда. Отец: «Держись. Горпешка!» — и гонит, нахлестывает а бандиты почти настигают...»
Одна из самых впечатляющих композиций — «Защитница Родины». Стоит в полный человеческий рост, женщина в военной форме, держит в поднятой руке меч, в другой — гранату. Под ногами, на небольшом постаменте, надпись, как бы речь ее ко всем нам «Стою на защите родной стороны. Земля моря, окиян добыты нашей собственной рукой. Заря ясная, страна прекрасная. Любимая, непобедимая».
Когда делала «Защитницу», вспоминала, как провожала Ивана Илларионовича на войну: «Вин сел на телегу, а я иду рядом, плачу, а вин — «не плачь, жив буду — вернусь». Или как сохраняла в те годы жизни малых своих детей. Как отбивала у оккупантов корову-кормилицу. Я под забором пролезла во двор, куда они наш крестьянский скот согнали, да потихоньку-потихоньку Катерину через ворота и вывела. И бегом по дороге. Немцы выскочили — бах! бах! Мы в кукурузу легли, говорю: «Не мычи. Катя, убьют». Смотрю, а у нее слезы из глаз...»
Живут в селе два пенсионера. Работают на приусадебном участке, сажают семь соток картошки (часть урожая сдают колхозу), держат корову Дамку (часть молока тоже сдают), кабанчиков, кур, любимых хозяйкой кичливых индюков, растят абрикосы и виноград. Живут, ждут, когда под орлом и корабликом зазвучат звонкие голоса самых младших из рода Иванченко, и возникнет новая неутихающая красота.
Источник-журнал Крестьянка